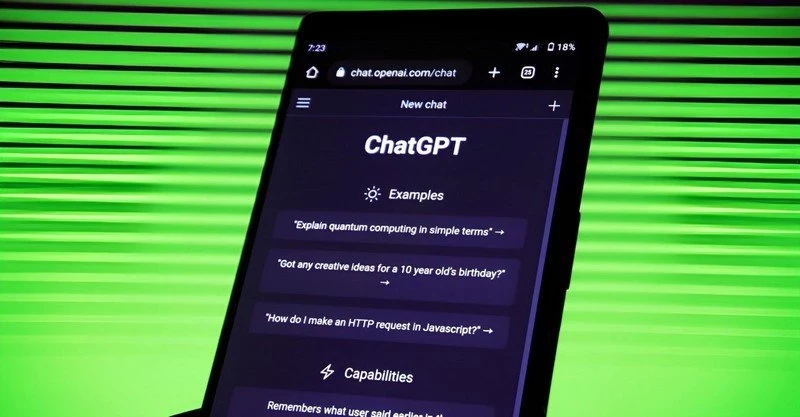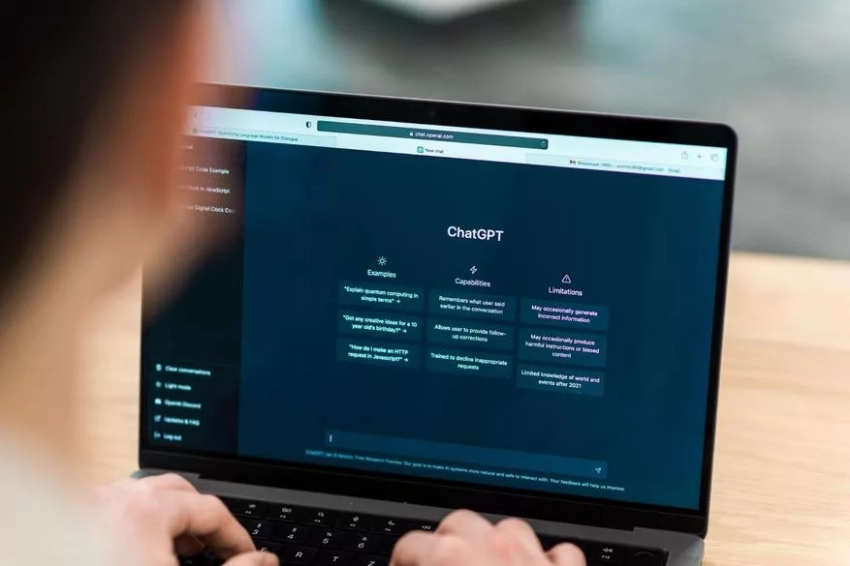Как одержимость психологическим благополучием привела к появлению терапевтических ботов
Миллионы пользователей по всему миру обращаются к программам LLM, таким как ChatGPT, в поисках поддержки в области психического здоровья. Однако в ответ на это появились серьезные предупреждения о возможных негативных последствиях, пишет Эшли Фроули.
Психолог, упомянутый в The Guardian, предупреждает, что «ChatGPT может способствовать развитию маний, психоза и даже самоубийственных мыслей». В Fortune также поднимается вопрос о предвзятости и стигматизации, которые могут усиливаться при использовании LLM в терапевтических целях. По данным The Times, к марту этого года на TikTok появилось почти 16,7 миллиона постов о применении ChatGPT в терапии. Это вызывает беспокойство среди специалистов в области психического здоровья, которые видят в этом следствие своей же работы по формированию такого спроса на терапию.
На протяжении десятилетий терапевты активно утверждали, что незначительные проблемы тоже требуют профессионального вмешательства. The Guardian еще в 2016 году предостерегал молодежь: «Психологическая поддержка не должна восприниматься как последняя надежда для тех, кто столкнулся с трудностями». И эта мысль актуальна до сих пор: «Не обязательно достигать дна, чтобы заслужить помощь. Достаточно быть человеком». Однако реальность такова, что стоимость терапии может достигать нескольких тысяч долларов.
Недавний журналистский опыт показал, что за два года на терапию может уйти сумма, эквивалентная почти 7000 долларов. С учетом этого многие ищут более доступные альтернативы, такие как ИИ. Но причины обращения к чат-ботам идут глубже, чем просто высокая цена на профессиональные услуги. Общество стало воспринимать обращение к друзьям и родственникам за эмоциональной поддержкой как рискованное поведение.
В публичных дискуссиях часто звучат предупреждения, что делиться эмоциями с близкими может ухудшить отношения и травмировать слушателей. Ранее интимные разговоры теперь рассматриваются через призму терапевтических терминов, таких как «эмоциональная работа» и «сбрасывание травм». Последнее означает передачу «травматических деталей без согласия другого человека». А согласие в этом контексте зачастую подразумевает финансовые вложения.
Таким образом, обращаться за поддержкой теперь считается обязательным, и терапевт является «лучшим вариантом», поскольку это профессионал, обученный помогать людям справляться с эмоциями. В результате, использование друзей как источника поддержки стало рассматриваться как опасное и вредное для их благополучия, предупреждает психолог.
Эта установка особенно распространена среди студентов, которым с детства внушают, что неформальная поддержка неуместна. Как я отмечала в своей книге «Важные эмоции», кампании по поддержке психического здоровья на протяжении двух десятилетий подчеркивали, что обращение за помощью к профессионалу стало признаком гражданской добродетели. Молодежи говорили, что для того, чтобы быть хорошими гражданами, им следует воспринимать свои эмоции как потенциальную угрозу и обращаться за помощью. Никакая проблема не была слишком незначительной, чтобы не обращаться к специалисту.
Послание этих кампаний было ясным: ваши эмоции — это риск. Доверять свои переживания друзьям — это небезопасно. Именно это привело к тому, что мы сейчас наблюдаем.
Подобные идеи продвигались не только психологами, но и политиками, общественными деятелями и коучами. Психическое здоровье превратилось в основополагающий аспект жизни, и каждая эмоция стала восприниматься как потенциальная патология. Любое невнимание стало расцениваться как микротравма, а любые отношения — как угроза «благополучию». Эмоциональный труд, который ранее критиковался как эксплуатация со стороны работодателей, теперь используется как аргумент в пользу отказа от общения с друзьями.
С начала 2000-х годов организации, занимающиеся психическим здоровьем, оказывали давление на медицинские учреждения, требуя предоставить широкий спектр терапевтических услуг. Они угрожали серьезными последствиями в случае игнорирования этих требований. Обещание о том, что платные услуги окупятся, быстро распространилось.
Однако такие требования влекли за собой значительные расходы. В сфере образования возникли новые подходы, направленные на распределение этих финансовых и эмоциональных рисков. Вдруг помощь в поддержании психического здоровья оказалась на плечах всех сотрудников, от работников общежитий до библиотекарей. Их работа заключалась в направлении студентов на «соответствующие» ресурсы, что, однако, не решало проблему.
По мере роста числа пользователей онлайн-ресурсов для психического здоровья, представители сферы консультирования начали отстаивать свои права как экспертов. Они утверждали, что только они способны справиться с рисками, связанными с психическим здоровьем. Но ущерб уже был нанесён. Теперь каждый может иметь своего «карманного психотерапевта» в виде чат-бота.
Всё это происходит на фоне культурного сдвига к постоянной самоанализу. Постоянное обсуждение собственных переживаний стало восприниматься как обязательное, в то время как внимание к эмоциональным состояниям подается как гражданский долг. Люди должны быть внимательны к своим чувствам и выявлять признаки риска.
Проблема не в том, что люди обращаются к ChatGPT вместо терапевтов, а в том, что они слишком зациклены на своих проблемах. Этот уровень интроспекции становится невротичным, и поддерживать его становится финансово и эмоционально невыносимо.
Логично, что ChatGPT кажется более предпочтительным вариантом, чем терапевты. Один из пользователей в интервью с The New York Post заметил, что «ИИ действительно более умный и квалифицированный, чем любой человек». Другие пользователи утверждают, что за считанные минуты получают нужные советы, на которые в традиционной терапии могли бы уйти годы. Это привело к тому, что на терапию выделяются миллионы, а спрос на услуги растет.
Компании, занимающиеся ИИ, уже начинают разрабатывать специализированные терапевтические модели, такие как Therabot, которые обещают «значительные улучшения», сопоставимые с традиционной терапией, но быстрее и дешевле.
Однако основная причина обращения к ботам заключается в изменении отношения к близости и отношениям. Люди начинают воспринимать общение с другими как бремя и риск, что приводит к тому, что для защиты других они предпочитают «аутсорсить» свои проблемы. Это не только проблема технологий, но и отражение культуры, которая их создала.
В панике по поводу замены профессиональных терапевтов чат-ботами можно заметить явный налет снобизма. Журналистка Нина Лемос после общения с ChatGPT отметила, что «абсурдное» поведение бота не изменило её жизнь, добавив, что она «зрела и прошла терапию», чтобы написать статью. Но что делать тем, кто не имеет такого опыта?
Страх того, что люди будут обращаться друг к другу за помощью, всегда был причиной предостережений. Это слишком неуправляемо и далеки от профессионального контроля. Даже в движении саморазвития критики выражали свои опасения, что люди неправильно используют рекомендации.
Сейчас учащимся говорят, что их проблемы являются симптомами, а их чувства — рисками. Мы научены следить за собой, но не за тем, чтобы жить вместе. В этом контексте бот-терапия — это финальная стадия терапевтической революции. Терапевты утверждали, что только профессиональная помощь может быть надежной, и теперь эта помощь передана алгоритмам.
Терапевты правы, когда выражают свои опасения, но не должны удивляться. Боты просто заменили тех, кому они советовали не доверять.
Compact
Обсудим?
Смотрите также: